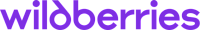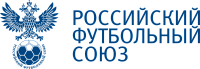(начало интервью см. ЗДЕСЬ)
(начало интервью см. ЗДЕСЬ)
– А когда играть закончил?
– Закончил играть в основном составе, когда Козьмич стал новую команду постепенно подбирать. Было это, наверное, в году 1986-м, когда я со второго круга преимущественно за дубль выступал. Я же в дубле был года два. Бывал в запасе на играх основного состава. Периодически выходил, но уже сам понимал, что мне не играть. Тогда закрепились в основе братья Савичевы, Димка Харин, а Дима Чугунов на моем месте стал выступать.
И вот тогда-то начался период выезда наших футболистов за рубеж. Как сейчас помню, у нас Никонов был тренером в дубле. И, чтобы свое материальное положение поправить, я частенько у Козьмича отпрашивался и за ветеранов ездил играть. Он не возражал: «Езжай и деньги зарабатывай, а здесь, в дубле, молодежи помогай».
Кстати, моими партнерами были как раз ребята того поколения 1970-1971 годов рождения из торпедовской СДЮШОР – Шустиков-младший, Тишков Юра, Чугайнов, Арефьев, Кузьмичев, Чельцов, Ульянов. Хороший год такой у них был. «Дедом» у них был. С ними играл. Вот мы вместе с Вадиком Никоновым их к большому футболу и подводили. А Козьмич был доволен, всё время хвалил. В поездки меня с собой брали.
И вдруг откуда-то из ветеранской поездки возвращаюсь, а мне говорят: «Правда, что ты за границу оформляешься?». Я: «Как за границу?». Оказывается, в Швецию нас стали оформлять. Я тут же к Козьмичу, а он: «Да. Запрос на тебя пришёл». А в то время ведь надо было собрать характеристики, медицинские справки, что-то ещё. И – плюс! – пройти ЦК. А мне тогда было где-то года 33 или 34. Здоровье уже не то, болячки старые всё чаще давали о себе знать. Но оформление документов я всё же прошел.
А перед самым отъездом на смотрины в Швецию, в клуб, где Пригода играл (он тогда вместе с Сергеем Андреевым и Игорем Пономаревым уехал), вдруг приходит факс о том, что они какого-то болгарина взяли или ещё кого-то. И, короче говоря, поставили меня на «лист ожидания».
И параллельно у меня появилась возможность перейти на работу в МИД дипкурьером. Я, в принципе, уже думал о будущем – что-чего делать. Ты знаешь, ведь Серёжка Петренко тоже одно время подумывал о том, чтобы стать МИДовским сотрудником. Даже на какие-то курсы в связи с этим устраивался. В то время ведь считалось престижным работать в МИДе.
– А как вообще всплыл вариант с твоим дипкурьерством?
– Очень просто. Была дана характеристика от завода по линии МИДа. Были наработаны определенные связи. Допустим, у нас очень много работает людей с ЗИЛа в, скажем так, секретных вещах типа «загрезидентуры». И возник этот вариант с выходом на каких-то людей через партийный комитет, через партбюро завода. Мне сказали, что есть такая возможность – пойти работать в МИД. И тогда-то у меня и состоялась первая встреча с Владимиром Алексеевичем Бредневым, который там работал. Но я не его протеже. Почему-то, когда я туда только пришёл, считалось, что я попал в МИД благодаря ему. Видно, существовала определённая «каста» людей, которой работа там была доступна. Шли и по партийной линии, и по каким-то МИДовским связям. Дипкурьерская служба считалась элитным подразделением, в которое «с улицы» попасть было просто невозможно. Я свою первую встречу с Бредневым никогда не забуду. Он мне: «Ты только скажи, что не я тебя сюда тащу». – «А причём здесь вы? Я иду по другим каналам. По партийным спискам. Через завод». Он мне дал первые наставления – так я и попал в дипкурьерскую службу.
У меня была дилемма: или ждать на «листе ожидания» 3-4 года, чтобы еще немного поиграть в Швеции, или идти работать в МИД. Я ведь понимал, что мне осталось играть в футболе год, от силы два, а дальше что? А здесь – постоянная работа. Плюс загранкомандировки. Страна-то у нас в те годы была фактически невыездной.
– Ты какие-то курсы заканчивал, прежде чем приступить к работе дипкурьера?
– Там были не курсы. Есть определённый подготовительный период. Как и в футболе, в дипкурьерской службе существуют «касты». Иначе говоря, – определённые категории. По тем временам существовала 4-я. Если не было нарушений, и ты посещал лекции, то переводили в 3-ю, 2-ю, а затем и в 1-ю. В нашей профессии даже есть люди, которые получают дипломатический ранг – первого секретаря, советника и т.д. Скажем, бывали и такие люди, кто отработал порядка 25-30 лет. Правда, со временем это было отменено. Всё стало по-другому. Позже никаких дипломатических рангов уже не давали. Допустим, дипкурьер 1-й категории – и всё. И на пенсию провожали, как обычного пенсионера, не имеющего никаких надбавок. Насколько я знаю, величина пенсии была равносильна средней заработной плате. Безо всяких заслуг, которые, например, имеют летчики за налет часов, за сложность условий полетов. Не знаю, введены ли надбавки сейчас, а раньше был пенсионер – и всё. В 60 лет тебе пожимали руку – и провожали на заслуженный отдых.
– Все дипкурьеры являются персонами неприкосновенными?
– Ты имеешь в виду – в процессе их работы?
– Да. Во время исполнения ими своих служебных обязанностей.
– Все неприкосновенны. Они считаются дипломатическими работниками. И таможенный досмотр не проходят.
– Символ дипкурьерской службы – это, видимо, вализы?
– Да. Мешки для перевозки дипломатической почты. Кстати, ты спросил о том, как для меня начиналась дипкурьерская служба. Однажды моя мама приехала к МИДу, а я какое-то время не мог с работы отлучиться. Долго ждала. И, наконец, выхожу. А на мне – джинсы и рубашка. Причём вся одежда была грязная, испачканная. Она меня спрашивает: «Сынок, тут все такие красивые, в костюмах и галстуках. Ты же, как чернорабочий какой...». А секрет заключался в следующем. Прежде чем стать настоящим дипкурьером, я постоянно стоял у кастрюли, в которой варился сургуч. Им запечатывали эти самые вализы. Вот и выходит, что я был самым настоящим чернорабочим. Грузчиком, в том числе. Такой работой обычно занимаются где-то около года. У меня же вышло более полутора лет. Моя работа заключалась в формировании диппочты. Это означало сортировку имеющейся корреспонденции на определенные группы. Она упаковывалась и складывалась в вализы, которые затем опечатывались.
Помимо этой работы, существовала ещё и сверхурочная, когда сотрудники отдела делились на две части – «Проводы» и «Встречи». Чтобы всё это погрузить в самолёт, на поезд, в машину при отправке или разгрузить при получении, существовала группа людей, которая работала и ночью, и рано утром, и в течение дня. Такого рода деятельностью я занимался более полутора лет, если даже не все два года. Я знал практически все столичные вокзалы, все грузовые отсеки самолётов, все купе железнодорожных вагонов. Мне ведь и грузчиком довелось поработать. А почта бывает разная по объему: иногда – один мешок, а иногда – и по две тонны. Всё нужно погрузить и разместить, обо всём нужно договориться со службами вокзала или аэропорта, проводниками поездов или стюардессами. Причём это зачастую происходило в те годы, когда у нас в стране был полный бардак, и поезда, скажем, задерживались с подачей на посадку. А значит, 600-800 кг нужно было загрузить в считанные минуты.
В аэропортах имеются специальные терминалы, куда мы обычно приезжали. А вот на Белорусском, Киевском или каком-либо ещё из московских вокзалов все вализы нужно было предварительно перегрузить на тележку, проехать весь вокзал и определённую часть перрона.
А если учесть, что 3-4 дня в неделю занимали погрузка или загрузка, то бывали случаи, когда я с этой тележкой встречался с бывшими футболистами. Они меня узнавали и спрашивали: «Ты что, грузчиком работаешь?». Было довольно неприятно, надо сказать, в моральном плане, но – ничего, возил. Почти два года.
– Дебютный-то свой выезд запомнил?
– Он должен был состояться 19 января 1991 года в Кабул. Аккурат в день моего рождения. А в Афганистане в то время ещё шла война. Если не ошибаюсь, именно тогда наши войска начали оттуда выводить. Или – наоборот – был период, когда Кабул моджахеды бомбить начали. Короче говоря, была очень сложная обстановка.
Но я четко помню, что каждый выезд наших людей туда состоял из того, что люди с почтой садились в грузовой самолёт. Кабул находится, скажем, в такой низине, окружённый горами. И ребята рассказывали, что они привозили гильзы от тепловых зарядов: самолёт заходил на посадку и шел кругами, а в это самое время от него отстреливались тепловые заряды, чтобы ракеты «земля – воздух» не подбили самолёт. И все с собой эти гильзы брали на память.
Я тоже слетал в Кабул и гильзу привез. Но это было уже позже. Своеобразное испытание на смелость. Ведь тебя не сразу пошлют дипкурьером, допустим, в какую-нибудь элитную европейскую страну. А первый выезд бывал, как правило, таким: или в Африку, или в Кабул.
И вот впервые я должен был лететь в Кабул. Уж не знаю, по какой причине, но рейс отменили. И больше мы в Кабул на протяжении какого-то периода времени не летали. Так что в Кабуле я в тот раз так и не побывал. А в первый раз выехал я... Честно говоря, не помню даже куда. Надо поднять все свои записи: там у меня всё есть. Мы специально вели такого рода журналы. Просто интересно зафиксировать те места, где ты побывал.
– На всех континентах был?
– Да.
– И сколько примерно стран тебе довелось увидеть?
– Мы как-то считали. По-моему, получилось свыше 90.
– А в островные государства как добирался? На корабли не приходилось пересаживаться?
– Если раньше мы летали фактически только «Аэрофлотом», то позже, из-за нашего русского бардака в период перехода от СССР к России, очень многие рейсы отменялись, поскольку не были коммерческими. А почту все равно нужно было сопровождать. Если прежде мы возили её в какую-либо страну один раз в месяц, то теперь частоту поездок сократили до одного раза в два месяца. И, соответственно, наши ребята стали пользоваться услугами иностранных авиакомпаний.
Все островные государства мы тоже объезжали. Допустим, летим самолётом индонезийской компании, пересаживаемся на самолёты другой, третьей, четвертой. Прекрасно помню, как в последний свой выезд мы с напарником из 17 дней 15 фактически провели в полёте. Причем – пользовались рейсами разных авиакомпаний. А маршрут был следующим: Сингапур – Джакарта (Индонезия) – Порт-Луи (остров Маврикий) – Сейшелы – Мадагаскар – Сейшелы – Порт-Луи – Джакарта – Сингапур. Обычно ночевали в Сингапуре. На Маврикии иногда ночевали, иногда – летели сразу. На обратном пути забирали всё наше хозяйство и уже летели в Москву.
Все эти государства – крошечные. Расположены где-то посреди океана. Их и на карте не сразу углядишь. Например, Сейшелы – 30 на 40 км, Маврикий – 40 на 80 км.
– Чего всё же больше в работе дипкурьера? Раньше ведь на примере Теодора Нетте воспевали служение революции и преданность социалистическим идеалам. Да и романтику тоже.
– Романтика не романтика, в этой работе ведь и шкурные интересы преследовались, чего уж там скрывать. В принципе, обычный человек – невыездной, а тут можно объехать весь мир и купить то, что простому смертному в нашей стране было недоступно. Купить, экономя на своем здоровье. Дипкурьерам выдавали суточные. Другое дело, если они были бы сумасшедшими, а так – чем меньше съешь, тем больше останется на покупки. В принципе, ни для кого это не было секретом. Через это и все наши артисты прошли. В гостиницах варили супы чуть ли не в унитазах, консервы с собой брали и кипятильники. Сейчас об этом уже никто не стесняется говорить. В частности, о шмотках, которых нельзя было достать у нас в стране. У нас то же самое происходило: какая разница между артистами и дипкурьерами? Правда, от жира никто не бесился, но – всё сэкономленное в командировке было твоим.
– Возникали какого-то рода непредвиденные обстоятельства?
– Ты имеешь в виду происшествия или что-то другое?
– Скажем, происшествия или незапланированные осложнения?
– В нашем отделе существует хорошая традиция. В один день года, – первое воскресенье февраля, – отмечается узкопрофессиональный праздник под названием «День памяти дипкурьера». Не знаю наверняка, почему именно в начале февраля. Если мне не изменяет память, это день примерной гибели Теодора Нетте (Теодор Нетте был убит 5 февраля 1926 года. – Прим. В.Е.), когда он вместе с Иоганном Махмасталем защищал дипломатическую почту.
У нас в штате отдела было порядка 100 человек. Бывало, что люди гибли в авиакатастрофах или просто при исполнении служебных обязанностей. Причём необязательно, чтобы их убивали – например, у кого-то сердце не выдерживало. И были те, кто погибал в бытовой ситуации. Скажем, был у нас такой Булгаков, которого убили чисто по житейской линии. И вот существует добрая традиция: все, кто не в разъездах, собираются в первое воскресенье февраля, заказывают автобусы и объезжают могилы на столичных кладбищах. Первым в этом списке всегда идёт посещение Ваганьковского кладбища, где похоронены Теодор Нетте и Иоганн Махмасталь. Группа наших ребят расчищают дорожки к могилам, прибирают сами могилы. Хочу сказать, что мероприятие это организуется на высоком уровне. Собираются и пенсионеры, и действующие дипкурьеры. На этих встречах я нередко видел и динамовца Савдунина, и других бывших футболистов. В общем, кавалькада получается человек в 80. Со стороны никто не может понять, почему мужчины, пожилые и молодые, приходят к этим могилам. Не скажу, что там происходит какой-то митинг, нет. Просто мы отдаем дань памяти этих людей – первых дипкурьеров. А затем обходим могилы и других людей, прежде работавших в дипкурьерской службе и по каким-то причинам уже ушедших из жизни. Затем садимся в автобусы и переезжаем на Новокунцевское кладбище. Стараемся объехать могилы всех людей, кто когда-либо работал дипкурьером. И, соответственно, потом собираемся за импровизированными столами, которые накрывает наша своеобразная орггруппа, и всех поминаем. Такая традиция заложена, наверное, уже десятилетие назад. И она по сей день существует. Честно говоря, очень приятно, когда собираются люди, много лет отработавшие дипкурьерами.
Дипкурьерской службе при мне исполнилось 80 лет. Сейчас, наверное, будет 85.
 Когда Виктор Круглов завершил футбольную карьеру, он начал работу... дипкурьера. И его основным багажом стали вализы (мешки для перевозки дипломатической почты). С 1991 года Виктор Михайлович побывал более чем в 90 странах мира на всех континентах.
Когда Виктор Круглов завершил футбольную карьеру, он начал работу... дипкурьера. И его основным багажом стали вализы (мешки для перевозки дипломатической почты). С 1991 года Виктор Михайлович побывал более чем в 90 странах мира на всех континентах.
– Мы считаем только союзные времена. Но ведь и при царе она наверняка существовала.
– Конечно. Честно говоря, я мимо ушей пропустил изначально, когда она была образована на Руси. По-моему, у Дюма есть один любопытный рассказ. Знаешь, откуда пошло это движение? (Показывает мне классический жест – постукивание горла указательным пальцем.) Нет? Я у Дюма прочёл. Коль уж мы коснулись вопроса о том, сколько же существует эта служба. Она и в средние века существовала. Правда, тогда эти люди по-другому назывались. Я вычитал такую вещь. Люди, которые перевозили какие-то секретные документы или служебную почту, заходили в трактир. А у них на этом месте, – показывает на шею! – стояла печать, свидетельствовавшая о том, что её хозяин или, если угодно, владелец является государевым человеком. Они показывали на эту печать, и им полагалась бесплатная выпивка. Допустим, бутылка вина или водки для сугрева. Говорят, что этот жест, якобы, пошел именно оттуда, из Франции.
– У дипкурьеров есть какая-нибудь официальная униформа?
– Униформы как таковой нет. Одно время хотели её ввести. Но существует непременное условие: быть аккуратно одетым, обязательно присутствие галстука и свежей рубашки.
– В любом климате, в любых обстоятельствах?
– Да. Причем выполнения этого условия жёстко требует руководство. Дипкурьеры должны выглядеть именно таким образом, а не иначе. Честно говоря, мне самому приходилось приезжать, допустим, на тот же вокзал и переодеваться в строгий костюм. А когда некоторые люди стали позволять себе такие вольности, как поехать без галстука или в каком-то свитере, это строго-настрого запрещалось. Пиджак, рубашка и галстук – одежда обязательная для дипкурьера. Своего рода джентльменский служебный набор.
– При исполнении служебных обязанностей существуют какие-либо еще ограничения?
– Дипкурьеры обязательно едут в паре. Бывали, правда, исключительные случаи, даже у меня, когда дипкурьер вёз почту один. Например, однажды я вёз её в автобусе, в котором были люди только из нашего посольства. Но такого рода случаи крайне редки. Хотя иностранцы иногда летают поодиночке. Я встречал таких дипкурьеров.
Причём – ездили в паре не с одним и тем же человеком, а с разными. Допустим, мне с тобой нравится ездить – и я опять хочу с тобой поехать. Нет. Существовавшая практика назначения приводила к тому, что с одним и тем же человеком я выезжал вместе, быть может, раз в три года, не чаще. На деле же выходило, что сегодня ты летишь с одним, завтра – с другим, послезавтра – с третьим и так далее. А поскольку условия поездок были самыми различными, то здесь совместимость характеров играет весьма большую роль. В то же время вероятность какого-то сговора между дипкурьерами-напарниками сводилась к минимуму. Допустим, у нас в отделе 100 сотрудников. Да, с кем-то ты можешь дружить, но быть близкими друзьями со всеми невозможно. И, соответственно, совместимость на личностном уровне тоже была различной.
– Что должен делать дипкурьер?
– Самая главная обязанность дипкурьера – это принять вализу с её содержимым, то есть – то, что тебе полагается отвезти от МИДа до места назначения, и сдать её в таком же состоянии, в каком ты её получил. Целостность вализы и сургучных печатей не должна быть при этом нарушена – это категорическое требование для дипкурьера. В противном случае это строго наказуемо. Ты должен как ребенка эту вализу уложить, положить, накрыть, чтобы она была неприметна, никому не бросалась в глаза. Так, будто ты едешь обычным туристом.
– С ручной кладью?
– Да. Потому что, летя рейсом иностранной компании, ты не имеешь право ни на шаг отлучаться от своего груза. Если один из дипкурьеров куда-то отходит, значит, его напарник должен находиться непосредственно с вализами.
– Возможны ли в пути следования какие-либо контакты с иностранными дипкурьерами? Существует ли взаимное уважение, такт и понимание со стороны зарубежных коллег по профессии?
– Взаимное уважение обязательно. Потому мне нередко доводилось летать вместе, например, с кубинскими дипкурьерами. Хотя, честно скажу, трудно определить, из какой страны тот или иной дипкурьер. Но мы прекрасно видели: мы – с мешками, они – тоже. Полное взаимопонимание и – более того! – взаимное доверие. Если русский человек по натуре своей менее доверчив, то иностранцы к этому относились проще. Однажды мы летели и по вализам догадались, что этот человек везет диппочту. Когда он отлучался в туалет, то просто просил нас присмотреть за его мешками. С нами, подчеркну, такого не могло произойти никогда.
– Степень и форма допуска иная?
– Да. У нас же очень строго. Не только по инструкции, но и по натуре самих русских. Как мне кажется, мы менее доверчивы.
– Не идёт ли это от социалистической идеологии, от воспитания?
– Может быть. Я-то как раз был воспитан в те времена, когда особой демократии в стране и не было. Да и принципы в нас закладывались иные.
– Я как раз об этом и говорю…
– Не знаю, какие люди сейчас приходят в дипкурьерскую службу, а раньше существовали определённые категории отбора. Прежде чем, допустим, попасть в неё, тебе же нужно было сначала предоставить характеристику с места работы, «объективку», в которой перечислялось, где ты работал и как себя проявил, какими качествами обладаешь. На мой взгляд, тот период отбора как раз и был идеальным. Плюс – мы прекрасно осознавали, что нас ждёт, если – не дай Бог! – что-то случится.
– Может, это и есть то, что мы обычно подразумеваем под профессионализмом? Есть чётко очерченный круг твоих обязанностей…
– Просто существуют определённого рода инструкции, которые чётко и неукоснительно выполняются. И каждый знал, что если ты их нарушишь, то в лучшем случае навсегда распрощаешься с этой работой.
– Ты сказал про возможность получения дипкурьерами дипломатического ранга. А есть ли какое-нибудь соответствие категорий дипкурьеров тем же воинским званиям?
– Насколько я знаю, в США или, допустим, в Англии сотрудники дипкурьерской службы имеют военные звания. На уровне старшего офицера. Например, полковника. У нас же исключительно гражданские звания.
– В какой степени дипкурьер должен владеть иностранным языком? И – каким?
– Было обязательным прохождение курса английского языка, рассчитанного на 4 года. Такая учёба проходила в отделе. У нас были свои преподаватели. Вся наша «команда» делилась, допустим, на три или четыре группы, у каждой из которых был свой преподаватель. И, в зависимости от твоего графика работы, иначе говоря, графика командировок, ты был обязан сдать этот курс английского языка. А уж затем по желанию ты мог пройти курс усовершенствования на дополнительных занятиях с преподавателем. Для этого дела тоже специально выделялись люди. (Усмехается.) Получалось у всех по-разному: кто-то выходил на знании, а кто-то – на своем обонянии.
Но, в принципе, не скажу, что английский язык столь уж нам необходим. Конечно, он необходим в какой-то мере, поскольку приходилось летать рейсами иностранных компаний. А значит, какой-то минимум для того, чтобы суметь объясниться, был нужен. Ведь случались и задержки рейсов, и их отмены, и поломки самолетов. В подобных ситуациях один человек должен был куда-то перетащить весь груз, а другой шел договариваться о том, где переночевать или перекусить. Такие моменты бывали.
– Может, есть ещё какие-то нюансы, которые я упустил?
– В принципе, много есть о чем рассказать. Но кое о чём говорить не положено. А так – какие нюансы? Скажу так. Эта служба настолько продумана и годами, даже десятилетиями, проверена, что что-то новое в бытность мою дипкурьером, допустим, – а я в ней одиннадцать лет отработал, – в неё не вносилось. Я знаю об этом не понаслышке, поскольку разговаривал с людьми, проработавшими и 20 лет, и 30. Практически ничего нового не вводилось. Как это было наработано годами, так всё и происходило. Как инструкции существовали 20 лет назад, так они и существуют. Принципы те же: стараться не «светиться», не появляться, реже выходить и куда-то отлучаться. Или – выходить только в сопровождении третьих лиц. Раньше, например, никуда вдвоем нельзя было выходить. Только – в сопровождении, допустим, представителей определенных структур, работающих в посольстве. Потом уж это стало с годами попроще.
Но и по сей день люди, работающие дипкурьерами, не имеют права выезжать с семьей за границу.
– Не имеют?
– Нет. Я одиннадцать лет отработал дипкурьером. А когда у меня вместе с семьей появилась возможность, скажем, отдохнуть в Турции, мне это было категорически запрещено. В Сочи – пожалуйста. А вот за границу нельзя.
– То есть – пока ты находишься на работе в дипкурьерской службе…
– …Заграница вместе с семьёй тебе противопоказана. В принципе, это смешно. С одной стороны, объехать весь мир с вализами, а с другой – не иметь возможность куда-либо выбраться со своими близкими.
– Она, заграница, рекомендована тебе для работы, но – противопоказана для семейного отдыха.
– Я всё время смеялся. Сначала моя жена постоянно интересовалась. И была в курсе всех моих командировок: мол, поехал сюда-то, затем – туда-то. А позже на вопросы обо мне говорила: «Куда-то уехал. Приедет такого-то».
Конечно, ко всему привыкаешь. Мне грех было жаловаться: я и в футболе много поездил по странам. А когда командировки случаются по два раза в месяц, причем их продолжительность составляет 7, 12, а то и 23 дня, чувство новизны восприятия теряется. И на 11-й год работы, сам понимаешь, интерес к конкретной стране пропадает напрочь. Ну, куда-то уехал – и что? Это я сейчас уже хорошо знаю географию стран мира и их столиц, а жена моя в ней не очень сильна (да ей это и не нужно). Допустим, назову я ей Бенин – Африка и Африка, не более того. А происходило обычно как? Две командировки в месяц. Сначала ты летишь в Новую Зеландию, а следующая командировка у тебя, например, в Чили. Абсолютно разные уголки земного шара. А раз поездка неблизкая и недешевая, то существовал некий порядок, позволявший экономить средства. Скажем, за один заход ты объезжал пять стран. И невольно всё перепутывалось и вытягивалось в одну череду поездок. Трудно было отличить, где именно ты находишься, – в Найроби или где-нибудь ещё. Нормальному человеку всё и не запомнить.
– На твой взгляд, чем же вызван этот запрет совместного со своей семьей отдыха за границей?
– Просто есть такая инструкция, которая была создана столько-то лет назад. Там написано: «Не положено». А коль не положено, значит – не положено.
– Мне это очень напоминает наши запреты на общение с иностранцами.
– Совершенно верно. Но раз уж мы начали пересматривать демократические принципы, то запрет на общение с гражданами других стран был снят. А тут, видимо, усматривается какая-то связь с армейской службой, где уставы и приказы не обсуждаются, а выполняются. Существует ведь и фельдъегерская связь, где работают военные. У нас же работа в дипкурьерской службе хоть и считается гражданской профессией, но всё равно она приравнена, скажем так, к «закрытой тематике».
С Виктором КРУГЛОВЫМ беседовал
Владимир Ергаков (журнал «2х45»)
|
Теги:
|
Тема:
Блоги
|